ГОРОД, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
А я считаю, что прелесть любого безумия как
раз в том, что оно плохо
кончается.
Х. Кортасар
«Выигрыши»
Он с усилием восстанавливал лишь обрывки
воспоминаний, которые смогли бы выстроиться
в некую иллюзию прожитой судьбы.
Милан Кундера
«Вальс на прощание»
«БЕЛАЯ ТЕТРАДЬ»
Путешествуя, не придавайся мечтам, а фантазируй
и обращай внимание на все даже
мелочи.
Д.Хармс
«Голубая тетрадь»
Я
видел, как по серому песку бежали красные кошки. Кошки – не домашние; скорее
они были похожи на тростниковых манулов, на огромных красных манулов, с
человеческими глазами.
Когда мне надоедят серый и красный, я подарю им черное
небо и серебряные звезды. Я не стану заказывать багет, потому что если красные
кошки захотят выскочить за пределы картины, будет обидно и не правильно ставить
им преграды…
А может, и закажу – не знаю. Но не из каприза, а потому,
что сам факт выхода за предел, этакий переход калинового моста моей картины
должен быть как-то обозначен. Да, пожалуй, я все же закажу багет…
* * *
Мне бы хотелось
улететь к далекой планете и не пожелать возвращаться. Только не спрашивайте
- почему. Вряд ли я способен отыскать
слова, чтобы объяснить это.
Само собой, что я буду скучать по
Земле. Уверен даже. Что за сотни тысяч световых лет Земля наконец-то покажется
мне прекрасной. Это, кстати, один из поводов.
* * *
Папоротники. Они взросли в моей квартире. Они вот-вот
заполонят ее, как некогда джунгли заполонили древние города Индии, Пенджаб,
остров Цейлон, он же Шри-Ланка. Иногда мне кажется, что они разумны, ведь они
прошли столько миллионов лет, чтоб прорасти в моей квартире. Воистину – великая
цель.
* * *
В моем сознании легко уживаются миры Пикассо и Юджина
Второго. При этом я понятия не имею, кто такой этот Юджин Второй, и лишь
отдалено представляю себе, кто такой Пикассо. Но розовые танцоры слишком долго
висели у меня на стене. А Юджин Второй мог запросто сделать в любую вещь в моей
квартире: от пылинки, до огромного стеллажа с книгами. Лишь розовых танцоров он
сделать не смог, хотя очень близко подошел к ним. Если, конечно, когда-нибудь
существовал.
* * *
Усталый путник, заблудившийся в
бесконечном пересечении улиц и переулков собственной памяти, опирающийся о
посох из потемневшего дерева. «Не хочет знать, но хочет сниться, - бормочет он,
заглядывая за угол очередного дома и снова ничего не обнаружив, - так не буди
меня…» Ветер развевает седые, давно не мытые волосы. Он, ветер, так же одинок,
как и путник, и тоже однажды заблудился, но, видимо, старик еще не перешел какую-то неопределенную
грань, за которой такие вещи становятся очевидными. И потому ни как не отвечает
на вопросы ветра, наоборот, раздраженно поправляет волосы, добавляя к уже
упомянутым словам несколько крепких выражений, достойных питейных заведений
Баии, где поклоняются Иеманжи, богине моря. Путник помнит несколько слов из
«Катехизиса», но никогда не произносит их вслух. Являясь частью загадочной
мозаики калейдоскопа, он, тем не менее, мнит себя не меньше чем центром
вселенной, хоть и не отдает себе в том отчета. Впрочем, в этом он ничем не
отличается от остальных людей.
Где-то громко хлопает дверь, но
на улице (или это переулок) так никто и не появляется. «Я вижу вновь эти лица,
- бормочет старик, - седые краски дня…» А луна висит над опустевшим местом без
имени и ей совершенно наплевать, что там бормочет еще один человечишка. «Мы
вместе. Старый я и новый… На бересте их имена прочту». Ну-ну, думает Луна, ищи
себе имена, я то тут при чем. Мое дело лететь над миром и давать свет, и плевать я хотела, настоящее ли
подо мною, или только вымышленное. По сути – все едино. Даже этот неряшливый,
выживший из ума человек, такой же глупый, как и все остальные.
Ветер не желает с ней
соглашаться, он чувствует в старике родственную душу, но тот так резко
отмахивается, что ветер, подобно напуганной собачонке, отскакивает прочь, и
теперь следует за путником на почтительном расстоянии. Еще не хватало, чтоб
этот старик замахнулся на него своей палкой. А от сумасшедших чего только не
приходится ждать. И повезло же мне, думает ветер. Стоило встретить брата по
крови, и он вдруг оказывается
сумасшедшим. Стоило ли лопатить столько времени воздух этого никому не нужного
места?
Где-то далеко тонко пропел гудок
паровоза. А толку-то? Так думает ветер. А старик думает, что этот гудок ему,
скорее всего прислышался, потому что какие тут могут быть поезда, если вокруг
ни одной живой. Кого же они будут возить. Бред какой-то, честное слово. «Серый пейзаж на стекле души… И еще что-то
там… трам-пам-пам… спеши-спеши… А потом так тихо, потому что… как же там? Не
дано тебе знать человеческой думы, что давно опустели поля… трам-пам-пам… Что
уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый золотого сухого шмеля… и трам-пам-пам…
Луна-то какая странная, того и гляди, рухнет на голову и все, жди несчастья».
А поезд в этот самый момент
бежит в далекую даль, туда, где ждет его Восточный Вокзал. Его пассажиры ни о
чем не подозревают и укладываются спать, потому что прибытие по расписанию,
рано утром и надо урвать у ночи хоть немного сна… Кажется, это называется
Восточный экспресс. Романтика, черт ее побери. Тишина и грохот крови в висках.
Дорожные романы, оплаченные путевки, командировочные билеты, лотерейные билеты,
отражения усталых лиц в потемневших стеклах. Есть в этом что-то чуждое, этакое
паучье. Отталкивающее.
А знаете. В чем суть отторжения
людьми паукообразных? Все очень просто, мы – разные культуры. Пауки – культура
ожидания добычи. Они сидят в своих гигантских паутинах и флегматично ждут,
когда жертва явится сама, хорошенько запутается и можно будет спокойно и не
торопясь пустить в ход застоявшиеся жвала. А человек – существо ищущее. Ему
невмоготу простоять на месте больше минуты. Ожидание добычи – не его стиль. И
потому, наверное, рыболовы так напоминают пауков. Они уже перестали быть
людьми. Они все ближе к тем, кто носит хитин…
Старик отряхивает с рукава пыль и
идет дальше. Он уже даже не стремиться выбраться из этого места. Он просто
привык идти и искать, хотя итог поиска его совершенно не волнует.
* * *
Две тысячи три иерихонские трубы… их голоса я порой слышу
по ночам, и мой мир в такие мгновения готов распасться на множество мелких
осколков. В такие минуты в голове рождаются строфы, размеры, рифмы… Может
оттого, что это происходит за мгновение до гипотетического конца света, все мои
стихи окрылены бессмысленностью. Но так же возможно, что каждый раз конец света
приходит в действительности, и лишь мне и моим фантазиям удается пережить его.
В таком случае в стихах моих глубочайший смысл. А то, что он не постижим,
говорит лишь о том. Что я сам еще не дорос до понимания моих стихов. Не могу же
я объяснить самому себе, для чего они пишутся, какова их цель. Она – за гранью
смысла в моем понимании.
Вот и теперь я слышу, как одна из
труб входит в мое сознание тенор-саксафоном Джона Колтрейна. Значит, скоро к
ней присоединятся остальные две тысячи две. Начнется какофония бессмысленности.
Вернутся строки, рифмы, размеры… Но для чего, Господи?
* * *
Порою по ночам, когда уже практически сплю, но связь с
реальностью не утрачена окончательно. В
моем сознании начинают проступать контуры Города: то какие-то отдельные детали,
типа мраморных львят на набережной, то целые кварталы. Словно с высоты птичьего
полета. Я не знаю ни названия Города, ни того, есть ли таковое в
действительности.
Впрочем, действительность сама по
себе абстрактна. Если честно, я пока не
верю в абсолютное существование Города. Мне даже приятно осознавать, что
виденное мною никогда не существовало Приятно, и чертовски символично бродить
по мостовым. Которых никогда не было, и, наверное, никогда не будет… Ни один
реальный Город я не любил так, как этот, никогда не существовавший.
Я подарил ему красных кошек и серый
песок. Я слушал, как бьется шагами его сердце, как пульсируют трамвайные
провода… Я еще пока не знаю, что именно в трамваях-то и дело. Я все еще не
способен быть с Городом всегда и везде и он приходит лишь с краткие мгновение
перехода от действительности ко сну… Скоро все изменится.
* * *
Я
не верю Птолемею, не верю Копернику, не верю в существование антиподов и
несуществование гигантской черепахи.
Потому что космос в идеале – скушен.
Он – вакуумичен, в нем ничего нет. В этом плане мне больше импонирует
бескрайний океан, по которому все плывет и плывет гигантская черепаха, несущая
на спине слонов-атлантов. На их огромных бивнях точечно нанесены рисунки
созвездий: южных, северных и тех, которые увидеть невозможно. Их души – время,
их мысли – мы, их смерть – остается загадкой.
* * *
В тот день я долго бродил по мраморной набережной. Следил за студентами художниками. Они
рисовали рябь на воде. Потом солнце зашло за адмиралтейский шпиль, рябь
исчезла, и только мраморные львята играли по-прежнему. Студенты разошлись. Мне
стало скучно, но эта скука ни как не походила на все, что я испытывал в
реальной жизни. Я возвращался умиротворенным, и ни о чем не мечтал.
* * *
По старой, пожелтевшей от времени. С неровными краями,
карте скользит тень моей руки. Имена теряют свой смысл, география материков
соприкасается с поэзией. Романтика, мечта. Вера – становятся лишь словами, но и
слова иногда бывают священны.
Мерзавец тот, кто лишил корабли
парусов. Корабль без паруса – мертвы.
Роза ветров вот-вот раскроется. Тень
моей руки перестанет существовать в тот
момент, когда ладонь соприкоснется с бумагой.
* * *
И вновь я видел студентов. Я брел от
перекрестка улиц девы Орландо и воина Орландо, в моих руках была книга, но
теперь я не могу вспомнить, какая именно. Я остановился закурить. Это было
недалеко от пиццерии Бльёзилье. И вот тогда они вдруг вырвались из-за угла с
криками, отчаянно жестикулируя. Наверное, что-то случилось; я не успел понять.
Но когда последний из них пробегал мимо меня, я заметил грубо намалеванную
мишень на его спине и слово «target». Бежали
они в сторону моста Рамаяна.
* * *
Каждый осколок
стекла под линзами калейдоскопа награжден правом непредсказуемости. Случайность
может сложить разрозненные цветовые кляксы в подобие чего-то определенного: то
мелькнет спина красной кошки. То розовый изгиб танцора, то блик солнца,
отразившийся в чьем-то зрачке и отрекошетивший куда-нибудь в витрину заведения
донны Флор и кого-то из ее мужей. Однажды я заметил, как алая звезда обернулась
черным орлом, глядящим одновременно и в сторону Адмиралтейства, и в сторону Университета. И во всем этом был
какой-то смысл, какая-то определенность. Иногда мне кажется, что в прошлом я
умел понимать этот язык, но знания утрачивают силу. Они уходят, оставляя место
опыту и старости.
* * *
Той ночью я пристально следил за
человеком, сошедшим с медленно ползущей баржи на ступени гранитной набережной.
В двух шагах от недовольных сумерками гранитных тигрят. С другой стороны
канала, с мраморной набережной, за человеком следили мраморные львята. Человек
кивнул и тем и другим (меня он не заметил) аккуратно выложил на ступеньки два
албанских лека и семь австралийских долларов. В тот миг луна показалась из-за
низко нависших туч и отразилась в очках человека. И тогда я узнал его, да это
было и не сложно. Потом я вспомнил его имя – Николай. Когда-то он был поэтом.
Давно уже. Потом его расстреляли.
* * *
Итак. Я не могу простить себе безмятежности. Идя по
улицам Мадрида (скажем, по улице Уэртас из Сентро в Кортес), я никогда не
вспоминал о Городе. Хотя мне было известно, что Х.К. посвятил ему целую главу
под номером 62. Но его Город растворился в рамках неровного треугольника Лондон
– Вена – Париж. Я же принципиально избегал эти города, стремясь найти свой
путь. Я бродил по Мадриду (отлично помню встречу с грязным нищим на площади
Сибелес, певшим хриплым голосом босанову), по Аллахабаду, где Ганг мелок и
грязен, по Тосканской Сиене, в канун Палио. Но никогда я не подходил к
треугольнику Х.К.. и с тех пор мне перестал нравиться мате.
* * *
Сегодня я устал от красного с серым. Видно, пришло время
что-то поменять: пыль на дерево, кошек на женщину. Пусть будут черный, голубой
и изумрудный. Там, где цирк Университета соприкасается с оградой консуэлло, я
повесил фотографию. Ту, где она стоит меж двух стволов огромного дерева-ворота,
на фоне ослепительно-голубого неба. Два изумрудных блика легли поперек
объектива и… вписались в гармонию.
Дальше. Сегодня время имеет все
меньше значения. Сегодня отсчитываю черный-изумрудный-голубой.
* * *
Их было шестеро или семеро. Но запомнил я только одного.
Вернее не запомнил, а вспомнил, Это был тот самый студент с мишенью на спине. В
этот раз он что-то громко рассказывал остальным, но из-за громкого ветра я
услышал лишь несколько слов: «мост», «бомбы», и, кажется, «Бог с ними»…
Приглядевшись, я рассмотрел шевроны
на их студенческих куртках: двое были с факультета Хронологии, остальные
кажется картографы. Но все, если судить по длинным шарфам и большим
прямоугольным папкам, мнили себя художниками.
* * *
На моем столе лежат Библия, «Алеф» Борхеса и «Доктор
Живаго» Пастернака. Стоит эбонитовая статуэтка девушки с кувшином, стоит
стакан, разрисованный Ею, стоит телефон. Лежат ножницы, пустой конверт, чистая
бумага и бумага исписанная. И все это не противоречит друг другу. Но когда к
столу подхожу я… у меня не хватает слов, но я осознаю себя лишним в этой
идеальной схеме-галактике моего стола. Видимо, я в ней не предусмотрен.
* * *
Он вернулся из Тегерана загоревший и чертовски усталый..
Сойдя на этот раз на мраморной набережной, Николай, не оглядываясь, кинул на
ступени несколько марокканских дирхем и ушел. По дороге к адмиралтейству, он
заглянул в пиццерию Блёзилье, выпил «Саперави», и расплатился танзанским
шиллингом.
Мне все больше и больше нравился этот покойник.
Тем более, его всегда преследовала тень жирафа.
* * *
Когда по улице идут монахи в красном, я всегда кладу им в
чаши немного риса и овощей. Даже перед чужими Богами следует испытывать трепет.
* * *
Город связан с человеком
так же, как человек связан с окружающим миром: его можно не замечать, но каждый
твой шаг, каждая мысль напрямую связаны с тем, что тебя окружает, так или
иначе, проистекает из окружающего. Просто с городом все не так прямолинейно…
Я еду в троллейбусе по Садовому
кольцу, мимо проплывает стела Лермонтова, а в голове моей плавно возникают
строки совсем другого поэта. На первый взгляд – связи никакой. Но стоит чуть
задуматься, и связь возникает, как свет фар в тумане. И в этой неопределенности
символов – есть город. Я схожу с троллейбусной подножки, вглядываюсь в лица
прохожих… А в голове шум ветра и привкус морской соли на губах. Это – тоже
город. Все, не имеющее конкретной, выражаемой словами связи с непосредственной
действительностью, и, тем не менее, совершенно ощущаемо к ней относящееся, все
это тени Города, который в реальной жизни имеет гораздо больше значения, чем
нам может показаться. Иногда, когда вокруг все серо, когда валит снег или идет
мерзкий осенний дождь, когда ветер бросает в лицо мокрую сырость и никуда от нее
не скрыться, когда, кажется, все должно портить настроение, вдруг происходит
все наоборот, и настроение поднимается, и мысли текут не торопливо и нежно, и
строки сами слагаются в размеры… Это город спасает тебя от серости дня, это он
просыпается в твоей душе, прикрывает твою истинную суть радугой каких-то только
ему известных моментов. Не в цветах тут дело, и даже не в самом Городе, как это
не парадоксально звучит. Ведь Город зависит от человека не меньше, чем сам
человек от Города. В этом истина змея, схватившего себя за хвост, вечное
движение черепахи, несущей слонов, равнодушие этих великанов, точечный рисунок
созвездий на их бивнях. Вся
трансценденция чувств и ощущений, это совокупность зависимости Города от
человека и человека от города. Так мозаика вырисовывается в рисунках, меняя
сущность, но при этом оставаясь мозаикой, множеством разнородных осколков
стекла, преломляющихся в зеркалах и воспринимаемых взглядом ребенка, не
помнящего, что это мозаика, видящего только рисунок. Так и человек не воспринимает
воздействие Города, как именно тень Города, но осознает его присутствие,
придумывая для этого различные подставные имена, глупые и не нужные…
Тумба с театральными афишами может
быть таким же символом, как смерть или рождение. Ведь для вечности реальная
ценность символа не зависит от той важности, какую придают предметам и событиям
люди. Для вечности все и всё равны.
Так же и Город не взирает на
непосредственные события человеческой жизни, но использует их в своих
интересах, туманных, неясных людскому уму, но всегда благородных и
спасительных. Город, расположенный над вечностью, но несомый Богом, такой же
мост через бесконечность и пустоту, как крылья ангелов. Как их падение, взлет,
очищение и понимание. Прощение я не упоминаю, поскольку Город изначально
вепрощающь, ведь в Городе человек остается всегда один на один с собой и
совестью, а это те судьи, которых не подкупишь, которые не спят и не забывают…
Но и человек для Города является
судьей, и процессы их тяжб во многом схожи. Только адвокатом человека являются
его дела. А Города – Бог. Разница, если вдуматься, небольшая.
* * *
Мне снилась палуба огромного
атлантического лайнера, в имени которого сошлись дата смерти и дата рождения.
Расфранченные прожигатели чужих состояний бродили под звуки черно-белого
оркестра. На их лицах отразились тени великой депрессии, сухого закона и
неудавшейся эмансипации. Ветер трепал вымпела и обрывки старых номеров газет.
Большие часы отсчитывали время ударами склянок, и все происходящее от этого
казалось недолговечным и умирающим. Белые батистовые платочки окрашивались в
кашле красным. И даже чайки кричали тоскливее, чем обычно. Я стоял перед
большим глобусом- баром, провожая глазами эпоху несостоявшихся надежд и великих
разочарований. Я знал. Что она уходит не бесследно, что останутся хрипящие
патефонные пластинки и тысячи книжных страниц.. и все же мне было грустно,
когда волны изредка перебрасывались через ярко украшенные борта и кропили,
благословляя, бледные лица пассажиров. Им оставалось еще несколько часов безмятежности,
но даже и она, безмятежность, уже носила печать ухода, печать смерти, печать
безнадежности серебряного века…
* * *
Она искала его в глубоких шахтах
Нортумберленда. Огромный кусок антрацита, просто кусок угля, который под
умелыми руками мастера мог превратиться во что угодно (но только не в статую
Верцингеторига). Она просто пыталась уйти за рамки
черного-голубого-изумрудного, который так и не смогла принять. Прощая красных
кошек, Она как бы отрекалась от Города, жертвовала им. Но в черном-изумрудном-голубом
не было жертвенности, была лишь временность, преходящесть. И именно это не
давало Ей покоя. Она слишком верила в бессмертие несуществующего Города, и все,
несущее в себе осколки времени здесь – принять не могла.
Я знал, что художник-студент с мишенью на
спине уже делает эскизы для черной статуи, что Николай уже готов оплатить
доставку глыбы антрацита боливийскими боливиана. Но я даже пальцем не
шевельнул, чтоб помешать им. Я знал, что черно-голубой-изумрудный период не
вечен, что время и тут возьмет свое. И
пытаясь уйти от него, они все только еще больше упрочают позиции минут, часов,
дней… Даже этот несуществующий Город когда-нибудь умрет, вот в чем на самом
деле, причина его существования.
* * *
И все же я не люблю папоротники. Они
слишком ленивы, чтоб быть безопасными. Еще вчера я видел их тол ко в своей
квартире, а уже сегодня они проросли
сквозь гранит набережной, всего в нескольких шагах от недовольных тигрят.
Завтра они оплетут багет красных кошек, заполонят весь Город. Но я нашел его не
для того, чтобы он стал очередным штатом Пенджап, он должен протянуть много
дольше.
* * *
Можно смириться с беззвездной ночью. Можно
смириться с чем угодно…
Можно слушать “THE MIDDLE
KINGDOM” группы “CRUACHAN”, читать «Благословение пана» Эдварда Дансейни,
и быть спокойным. В твое не зашторенное окно будут заглядывать раскосые глаза
эльфов, дро и прочих фэйри. И духи башенных зубцов будут пить воду из ладоней
кувшинок.
Твой сосед за стеной будет нервно
декламировать Пастернака, обильно запудрив ноздри кокаином. А молодая женщина,
чье тело вот уже несколько лет неотвратимо умирает, будет восхищенно внимать твоему соседу, и
плакать, забыв на мгновение и о тридцати долларах в час, и о болезни, нашедшей приют в ее крови.
В эту ночь Дали напишет «Лов
голубого тунца» и это станет единственной стоящей картиной из всего. Что он
создаст, и то только потому, что кому-то придет в голову использовать ее в
качестве иллюстрации к «Мертвому морю» Жоржи Амаду.
Белый всадник будет мчаться по
серебряной дороге, и встречный ветер будет развевать султан его шлема, а луна
высветит множество косых полос на его гербе. Знак бастарда.
Над каменными мостами шпага встретит
дагу, гарда поймает клинок в немом захвате, как взгляд ловит взгляд; а у домов
не будет теней, ведь вся тень этой ночи сгустится под крепостными стенами.
И в тот момент, когда прокричит
первый ночной петух, а голос ведьмы
выкрикнет странные, полузабытые душами слова,
первые осадные башни покажутся из-за горизонта.
Дансейни в конечно итоге прав,
колдовство ночи, единственное, чего стоит опасаться. Особенно, если над твоей
ночью не кружат звезды…
* * *
В феврале дни совсем короткие.
Солнце едва показывается над городом, чтоб ту же нырнуть в холодное море. Я
успеваю заметить, как оно отражается в узких окнах-бойницах адмиралтейства, в
витринах пиццерии Блёзилье и заведения донны Флор, как слегка касается стен
Университета и мраморной набережной,
преломляется в огромной антрацитовой скульптуре, сделанной ее
рукам, ускользает в триумфальную арку и
исчезает. Ночью начинает задувать дикий норд-ост, и студенты-художники, кутаясь
в длинные шарфы, торопятся разойтись по пабам и другим питейным заведениям.
Никто уже не рисует рябь на воде канала. Город претворяется спящим.
* * *
Глубоко уверен, что нет на свете
ничего, имеющего хоть какое-то значение. Кроме времени, разумеется, но время –
величина постоянная. Неотменимая, поскольку вроде бы и не существует. Тем не
менее, именно время реально, все же остальное пыль и труха. Тот, кто усиленно ищет смысл жизни, по
сути, ничем не отличается от всех остальных. Все мы только и делаем, что ищем
возможность пооригинальнее провести выделенный нам отрезок времени – глупо,
хотя глупость, это тоже возможность пожить с чем-то, напоминающим цель. Пытаться,
так или иначе, обессмертить свое имя опять же бессмысленно. Имя может
произноситься в течение тысячелетий, но потом все равно забудется. Так какой
смысл барахтаться? Все создаваемое в итоге- статично. А время отвергает
статичность, метит его старостью. И т тысячелетие – всего лишь отметка на
графике бесконечности. Все мы обречены, все творимое нами – бессмысленно. Зачем
страдать, если и страдания растворяться в бесконечности. Так, черт побери, надо просто жить в свое удовольствие, тратить
время, блага, оно неиссякаемо. И не
забивать голову ненужными мелочами. Не никакого смысла жизни, никогда не было и
уже, наверное, не будет.
* * *
я завидую Ей, Она чувствует себя в Городе, как
дома. Я же всегда был и остаюсь лишь наблюдателем, сторонним, во всей
беспощадности этого определения. Я брожу по улицам, развешиваю свои картины
и фотографии, но лишь Ее антрацитовая
абстракция действительно изменила хоть что-нибудь в лице этого Города. Мои
картины и фотографии замечают, иногда даже обсуждают (чаще просто ругая, на чем
свет стоит), - но и только. А про Ее статую никто не сказал ни слова. Не было
напечатано ни одной строчки в «Вечернем Городе», но уже на следующий день у
постамента начали встречаться влюбленные, а какой-то аноним (думаю – Николай,
но не уверен), каждую полночь приносит сюда цветы.. Хоть кто0-нибудь принес
цветы красным кошкам? Никто…
* * *
В кафе «Зебра» по
четвергам собираются очень одинокие люди. Бываю там и я, по долгу службы и
потому, что герой моего раннего рассказа Мартин никогда не пропускает эти
встречи. Реальный Мартин, флейтист из Владимира, умер больше десяти лет назад.
Но сюда он приходит каждый четверг, пьет свое кофе, выкуривает одну трубку, изредка вставляет
пару фраз общий разговор. Я внимательно наблюдаю за ним, ничем не показывая
авторство (потому что, несомненно, это герой моего рассказа, а не реальный
человек). От него еще пахнет копотью костра, с которого он увел лбюдей. Это,
пожалуй, единственное стоящее место в рассказе. Остальное – очень слабо. С тех
пор я стараюсь не писать рассказов, но в «Зебру» прихожу почти каждый четверг.
Моя цель – найти героев для новой повести или романа. Но каждый раз я забываю
обо всем и наблюдаю за Мартином.
Когда-то давным-давно я забрасывал
этот рассказ в интернет. Наверное, кто-то его прочитал. Иначе, зачем Мартину
приходить в «Зебру»? Кто может чувствовать себя более одиноким, чем герой
умершего прототипа, о котором кто-то что-то прочитал?
* * *
понятия «смерть» и
«творчество» неразделимы. Художник вынужден умирать в каждом своем произведении
без исключения, В этом Андрей Поляков
прав. Есть у него строки: «… умереть в ее стихи…». Тем обиднее умирать в плохих
произведениях, тем больше хочется создать что-то по настоящему великое. Не увековечить
себя великим – к черту, это же глупо, а именно умереть в великом. Тогда, верю,
между мной и абсолютной пустотой появится пусть призрачная, пусть только для
меня, пусть временная, но стена.
* * *
Бренда Венус, Генри Миллер, театр на
юге, гимнастка на сцене…
И дикий, пробирающийся под кожу
мороз. Двадцать минут на остановке в ожидании троллейбуса, который. Приехав. И
запустив нас в свое нутро, принципиально не желает двигаться мимо перекрестков,
пропуская потоки транспорта, пока от холода мы не начинаем коченеть…
И кто-то говорит о любви, но как
трагедия может быть любовью? Как можно назвать любовью попытку уйти от
собственного бессилия, от старости.
И жаль лысого старикашку…
А Бренда… Ну что ж, это же сказка,
так пусть в ней будет место Бренде…
Позже спектакль будут ругать. А я
буду советовать дождаться того момента, когда их всех привезут в театр на
инвалидных колясках, и тогда пересмотреть все ЭТО снова и тогда, возможно,
истина откинет вуаль и станет ясно, кто был прав, а кто видел лишь видимое…
* * *
памятник Пушкину. Она – в платье двадцатых годов, на
голове каре, смешная, облегающая шапочке и предельно яркая косметика. В руках
черный мундштук и дымящаяся сигарета. Он- в форме морского офицера, только что
из Порт Артура, еще не привыкший к столичной суете, еще не знавший тела
женщины, только душу, еще весь от
Байрона. Белые тюльпаны, сельтерская вода, наигранная утомленность во всем,
кроме навеки удивленных глаз..
Это просто сон, это не я, это не Ты…
Но какое это имеет значение?
* * *
Недоношенного ребенка можно спасти.
Недоношенное произведение рождается мертвым. Значит, приходится выбирать: либо
не писать совсем, либо писать до отмирания клеточек, до конденсата на висках.
Но как быть, если не писать, не
получается, а поиск зерна истины – противен в принципе? Жить непониманием? Не
стремясь объяснять даже самому себе и давать толчок для понимания читающему. Но
это же тяжело. Почти невозможно. Это значит, взять на себя ношу сомнения,
оставив истину другим. Как же оставаться самим собою, как не сойти с ума?
* * *
Заболел историей о Черубине де Габриак. Сказка при жизни.
Жизнью же и уничтоженная. И лишь потому, что кто-то не смог принять
непонимания, а непонимание было чудесно. А понимание – бытовое,
разочаровывающее. Зачем? Зачем рушить сказку? Ну, появилась тайна в жизни.
Тайна прекрасная, стоящая всего. Зачем раскрывать ее? Чтоб потерять и остаться
ни с чем? Зачем устраивать костры на площадях и жечь, жечь, жечь?…
* * *
Сначала только ощущения.
Мне страшно и холодно, но та, что держит меня на
руках, этого не понимает. Я поднимаю голову и кричу, в надежде бессмысленной,
что меня услышат…
Маленькую усадебку, окруженную прочным деревянным
частоколом, совсем неуютно окутывает ночь.
Откуда мне известно, что это именно усадебка? И про
частокол, ведь не вижу я его пока? Но вот, знаю же…
И еще, знаю почему-то, что женщина, держащая меня на
руках, не мать. Очень похожа, но не мать: может сестра, может еще какая
родственница. Она что-то машинально
повторяет даже и, не глядя на меня, но слова я разбираю плохо, какое-то
несвязанное бормотание, что-то с частым повторением слова “осподиси”. Рядом с
нами стоит большая телега, заваленная чем-то громоздким, темным… Женщина ходит
вдоль телеги, то и дело поглядывая в сторону частокола, скрывающегося за ее
спиной. Погода стоит тихая, бесшумная, глухая. Такие ночи, наверное, и называют
воровскими… Тревожное что-то вьется в воздухе, нехорошее… Как ожидание.
Дверь усадебки вдруг распахивается,
выпуская на улицу квадрат неяркого, колеблющегося света. Затем свет пересекают
две тени: одна повыше и покоренастей, другая пониже и старчески
сутулящаяся. В руках теней большие узлы,
и в них тоже что-то угловатое…
-
Все Машута, -
хрипло говорит тень пониже. Не просто хрипло, как-то с одышкой.
-
Надо тупать, -
восклицает женщина.
-
Да щас и
потупаем. Присесть бы…
Тени опускаются на ступени крыльца, женщина подходит к
ним и садится рядом. Становится еще тише. Еще тревожнее…
-
Ну… так с Богом?
– нерешительно произносит вторая тень. Все еще не видная мне.
-
С Богом-то оно…
конечно. – Отвечает та, что с отдышкой. – С Богом-то оно конечно, - и что-то
такое проскальзывает в том голосе, что-то дрожащее…
Сутулая тень поднимается и вскидывает руку с
отведенными двумя перстами.
-
С Бо… - пытается
вторить женщина. Но в тот же миг звук, незнакомый мне до селе вспарывает ночную
тишину, и что-то озаряет двор усадебки… Сутулая тень вздрагивает и начинает
оседать. На миг лицо его попадает в невесть откуда идущий лучик света, и на
лице том… Нет ничего на том лице. Лица нет – лишь страшная кровавая маска… И
становится жутко, и вдруг холодеют ноги, и сил на крик уже не хватает. Тот же звук начинает повторяться раз за
разом, но я уже ничего не вижу кроме крупной вязки шерстяного платка, в который
меня вжимает жесткая рука… Но и это продолжается не долго. Рука слабнет, опадает, но меня тут же подхватывают другие
руки, уверенные, сильные…
-
Ну, че замолк,
щенок. Нечо молчать. Дело сделано, теперича иначе пойдет. Подрастим, не боись,
а там и пальцы научишься по-людски складывать. В три перста…
* * *
В моей квартире иногда бывает так
темно, что глаза просто не в состоянии приспособиться к этой мгле, которая,
несомненно, состоит в близком родстве с пустотой космоса, но из-за стен, сюда
не проникают даже лучи звезд. Самое обидно, что включение света, все эти
электроприборы, свечки и прочее – только еще больше упрочивают позицию темноты,
делая ее отсутствие временным, а не абсолютным. Я включаю настольную лампу,
окружая себя подобием мелового круга, пытаюсь что-то писать, но в
действительности все, на что я способен, это внутренняя борьба с желанием
оглянуться и увидеть глаза Вия…
* * *
Она обожает трамваи, почти болеет
ими, готова проводить в трамваях сутки напролет, знает все маршруты, даже
знакома с вагоновожатыми и кондукторами. Те, конечно же, узнают Ее, и, наверное,
радуются, что Она села именно в их трамвай.
Я говорю, наверное, потому что сам
панически боюсь трамваев. Я признаю им как некий символ, но ездить в них не
могу. В Городе же я стараюсь даже близко не подходить к трамвайным путям. Я сам
для себя создал суеверие и осознаю это. Мне кажется, что, встретившись в
реальной жизни, я и Она навсегда
лишились возможности встретиться в Городе, ведь я никогда не подойду к
трамваю, а она никогда его не покинет. Ведь после этой встречи для одного из
нас Город во что-то похожее на глаза голубой собаки Маркеса, но более
человечное, антропотипичное, что ли. Как бы там ни было, Город перестанет быть
параллельным существованием, жизнью за багетом,
а превратится в обычный сон, часто повторяющийся, но неизменно
забываемый. И пока есть хоть один шанс на то, что все эти домыслы не бред, я
буду избегать в Городе трамвайных путей, и писать, как и раньше глупые,
наивные, ненужные нам обоим записки с цитатами из читаемых книг, а Она будет
снисходительно, но я явно неохотно отвечать. Увы, мы лишены возможности
скрестить руки над перилами моста Большого Мольна и встретить рассвет со
спутавшимися волосами.
* * *
Однажды это было вечером, в Анином
сквере, моя антипатия к трамвайным рельсам вошла в какой-то совершенно
колдовской резонанс с читаемым. Я не удержался, выхватил блокнот, вырвал наугад
листок и переписал:
“разве ты не знаешь, что трамваи – это и есть
Немезида, разве ты их никогда не видел? все они всегда один и тот же трамвай,
только войдешь и сразу видишь, что все как всегда, - не важно, какая линия,
какой город или континент, какое лицо у кондуктора. Поэтому теперь все меньше
трамваев […]…люди уже догадались и их уничтожают, это последние драконы,
последние гордоны§.”
Я не думал, что это тоже записка Ей,
просто сунул листок в карман закурил и пошел. Однако, поворачивая на улицу
Паскаля, рука как-то сама собой вынула листок и кинула его в раскрытые двери
подъезда дома Собачника Джека.
* * *
Работа обворовывает меня, крадет мое
время, не оставляя в замен ничего, кроме виртуальных единиц на кредитной
карточке “Виза”. Виза куда? Или виза на чем? Мне известно лишь то, что февраль
с неотвратимостью сигареты вот-вот дотлеет до фильтра, до 28-го числа. Что дом,
который осенью только-только начинали строить под окном моей квартиры, вдруг
оказался не только завершенным, но и покрашенным в трогательные оттенки кофе с
молоком, взбитого желтка и
херсонесской туи.. Что огромная
кофеварка, этот монстр, питающийся человеческим давлением, при моем приближении
всегда высвечивает на миниатюрном дисплее “Feel beans”. И мне приходится пить суррогатный чай из
телерекламы. А десять тысяч маленьких кофеваров, спрятавшиеся под черной
пластмассой, так и закатываются от хохота, хватаясь за свои шоколадные
животики. Иве это не имеет никакого отношения к Городу, но зато напрямую
связано со временем, пожираемым работой. И только телефон может, если снизойдет
спасти меня. Он соединит меня с Ней, едущей в одном из своих трамваев. Потому
что так, через барьер мы можем общаться не думая о суевериях.
* * *
-
Привет.
Ты опять в трамвае?
-
Как ты
догадался?
-
Грохот.
Так шуметь умеют только трамваи.
-
Особенно
маршрут «Года-Годо». За это я его и люблю больше остальных.
-
Я бы
тоже мог полюбить трамваи, даже этот твой «Года-Годо», честное слово. Но там,
где есть эти железные коробки, всегда почему-то есть рельсы.
-
Мне это
не мешает…
-
Зато
мешает мне.
-
Я
получила твою записку. Смешно. Ты снова перечитываешь 62 главу?
-
Варум
нет? Ты же тоже читала ее три года назад.
-
Я бы и
теперь Ее перечитала, но все эти телефонные звонки…
-
Тебе
звонит еще кто-то кроме меня?
-
Не будь
эгоистом. Просто эти звонки тратят мое время.
-
Смешно…
-
Что ты
нашел смешного?
-
Смешно
то, что я сам хотел пожаловаться на нехватку времени.
-
Я
сделала это за тебя. Мы, наверное, слишком близки. Конечно, в этом вся причина.
-
Ты
придешь сегодня домой?
-
Я всегда
прихожу. Ты же знаешь…
-
Да.
Тогда до вечера. See you…
-
Пока.
-
Чуть не
забыл. Февраль кончается.
-
Жаль,
что это не вопрос. Я бы с удовольствием ответила, нет.
-
Мне
казалось, ты не любишь зиму.
-
Причем
тут зима. Мне жалко время.
-
Тогда до
вечера
-
До
вечера.
* * *
Эти бесконечные поездки по Москве
выбивают меня из колеи. К тому же мне сегодня дали совершено четко понять, что
в Прагу я не попаду. Не из-за нехватки денег. Побывал же я в Кении. В Мадриде,
даже в Лихтенштейне. А Прага – такая близкая, рукой подать. Не для меня. Вся
эта средневековая декорация, застывшая в статичности вечного города (куда там
Риму), все эти улочки, дома, окна, между которыми ненужно протягивать доску,
чтоб передать друг другу мате. Впрочем, мате здесь не пьют. Все это мне никогда
не увидеть, даже если я скоплю денег и куплю билет. Все равно Прага окажется
каким-нибудь другим городом, и я как Сизиф буду толкать перед собой свою обиду,
зная, что она однажды сорвется, но не в силах остановиться…
* * *
А может дело вовсе и не в трамваях,
и этот идиотский синдром Берлиоза лишь реакция на что-то мною незамеченное,
упущенное. И, наверное, есть еще шанс заметить это и отказаться от
предрассудков, как отказался я однажды от взгляда на воду в пролете между
станциями метро «Коломенская» и «Автозаводская».
Вот только не опоздаю ли я? Ведь
красные кошки заняли свое место на стенах одного из домов мраморной набережной
целых два месяца назад, в Городе это огромный срок. А потом была еще эта глупая
попытка переспорить Ее, это ченое-изумрудное-голуборе. И есть, всегда были,
мезозойские папоротники, заполонившие уже всю гранитную набережную, кроме
постамента недовольных тигрят…
* * *
Въезжая на холм Прозетария, Израиль
Бельховец знал только то, что единожды оседлав степного скакуна, он уже никогда
КОНЕЦ БЕЛОЙ ТЕТРАДИ.
«КАРМИНОВАЯ ТЕТРАДЬ»
В лиловато-синюшном
свечении улицы, в этом воздухе,
теплом и порой губительном для
легких я ощутил
пульсацию города, биение
неуловимого ритма,
так похожее на биение сердца, только что вынутого
из неостывшего тела.
Генри Миллер
«Улица Лурмель в тумане»
Я нашел Ее записку в стыковой щели
перил моста Большого Мольна. Всего одно слово
«Глупый». И смешная рожица, кривой такой хэппи-фэйс.
Почерк торопливый, наверное, писала, стараясь успеть, пока трамвай проезжает по
мосту. Трамваи проходит по Мосту Большого Мольна два
раза в четверг, в остальные дни они
ходят по мосту Рамаяна… Сегодня – пятница.
Холодно. Студенты-художники кутаются
в свои невероятной какой-то длинны шарфы, некоторые натянули цветастые треухи.
Конец зимы – как всегда самое холодное время. У донны Флор учатся делать
ванильное мороженное. Я стою на мосту и слежу за каким-то чудаком, продолбившим
во льду круглую лунку и теперь с улыбкой разглядывающий свое творение. И
никакой мороз ему не помеха. Может быть это очередной любитель подледной
рыбалки, а может, это снова я ищу твои постовые ящики. Как знать?
* * *
Когда ночь перестает претворяться сумерками и принимает
синеву от одной линии терминатора до другой, они просто ложатся рядом, на
неловком раскладном диване, чтобы ловить дыхание друг друга. Это так не просто,
что приходится окружать себя полной тишиной, чтоб ничто не отвлекло. Не сбивало
сосредоточенности, определенного давным-давно порядка: он выдыхает, она
вдыхает, он вдыхает, она выдыхает. Ритм четкий, отработанный. Любая синкопы
–катастрофична. Одни называют их ловцами дыхания, другие думают, что любовь
названия не требует. Я же щедро дарю им двенадцать часов от одной линии терминатора
до другой.
* * *
Так начался синий период. Некоторые говорят ночной, но
разницы я не вижу. Февраль стремительно кончался, и в город неторопливо входила
весна. Ней перестанет скоро серебрить антрацитовую абстракцию, и ходят
слухи, красные кошки вот-вот начнут
прогуливаться за багетом.
* * *
Тьму-Таракан живет в огромной
стеклянной банке в пиццерии Блёзилье. Как раз в том
месте. Где сходятся отражения трех зеркал и тонированной зеркальной двери.
Иногда мне кажется, что Тьму-Таракан тоже отражение,
но это конечно не так, это эхо 62 главы, все раздающееся в моей голове. На
самом деле Тьму-Таракан – самый обыкновенный паленезийский таракан, каких там, в Паленезии
полным полно. Но в городе он один единственный, этакий раритет. Ему и место
особенное и внимание пристальное. Но все же, таракан в пиццерии…
* * *
Утро. Завтрак. Аргентинское танго и
хорошая сигарета. Лучше бы конечно сигару, но курить не затягиваясь – этому
научиться сложнее, чем водить автомобиль. Где-то там, чуть выше низко натянутых
дождевых облаков рокочет своими гигантскими моторами великан «Илья Муромец»,
такой большой, что кажется, будто бы это не он взлетел с земли, а земля
сорвалась из его лап и падает, падает, падает… Время пить чай с молоком…
* * *
Странно, что в последнее
время я все реже вижу Город во сне. Кажется, чему же еще сниться, как не
Городу, но вот – нет. Он существует параллельно реальности. Если, скажем,
представить время реальности схематически – получиться что-то вроде туннеля. А
Город будет как бы вторым тоннелем над первым. Труба в трубе, время во времени.
Причем, на самом-то деле я не до конца уверен в первичности той или иной
единицы.
* * *
Далеко за полночь моя кухня
вдруг оживает. В ней обнаруживаются неясные звуки, свободно блуждающие между
потолком и полом, между воздуховодом и форточкой, стеной и дверью. Дверь
жалобно отвечает скрипом, но видно, что она тут такой же гость, как и я, потому
торопится скорее замолчать. И вжаться поглубже в косяк. В иллюминаторе
стиральной машинки живет отражение иного, даже иномерного
пространства. Холодильник сонно всхрапывает, из крана капает вода, а я чувствую
себя таким лишним в этой нечеловеческой обстановке, что мне как-то стыдно
становится, будто бы я подглядываю, и я ухожу за свой письменный стол, у которого
в темное время суток всегда находится для меня часок другой свободного времени…
* * *
Крутится колесо: чуть медленнее или чуть быстрее, но
крутится всегда. Где оно? Под велосипедной цепью? Под автомобильным крылом? Или
в механизме моего будильника? куда спряталось оно отсчитывать деления
отведенного мне отрезка вечности? Когда остановится и почему? А главное –
зачем?
Нет, конечно, это не жизненно важные
вопросы. Но иногда, накатит вот такое настроение, хочется оглянуться,
продраться сквозь накипевшие на память мутные пятна, пережить все виденные
восходы, закаты, минуты, когда был счастлив. Хочу, хотя давно осознал
бессмысленность таких желаний. Обрести уверенность, что все это было не зря.
Имело какой-то глубокий символизм. И не нахожу…
* * *
Мой Миракль, моя Моргана, мое зеркало Галадриэли…
Это вы во всем виноваты, вы сделали мою жизнь такой, какая она есть.
Неспокойной, неудовлетворенной, голодной до событий и неповседневности.
Мои глоссарии полны вами, и даже
каравеллы Колумба все кружат и кружат вокруг точки водоворота, не способные ни
на смерть, ни на открытие.
Краснокожие майя застыли на ступенях своих
пирамид, отсчитавших куда больше двадцати веков, и ждут вашего проявления в
золотом лике Бога Солнца.
А сверху устало жмурится Кецалькоатль, великий пернатый змей, последний из династии
похитителей душ. Но и он бессилен перед вами. Перед тобой, Миракль, застыли
пораженно все сфинксы планеты. Перед тобой, Моргана, преклонил колени славный Ланселот, и глаза его печальны. Перед тобой, зеркало,
преклоняюсь я сам, ибо не в состоянии
постичь тебя.
* * *
Итак, «Kodak» не смог
прикончить Рембрандта, а «Hollywood» не
разрушил ни один театр. Камень остается камнем, стрелки – часовыми времени, а
я? Восток не изменит восходу, закат красит запад. Юг и Север бьются в своей
вечной войне за обладание отголосками и оттенками, и негры тут не при чем.
Гарлем процветает. Белые паломники спят под Бруклинскими мостами. А мулатки все
еще остаются чудом, а не продуктом прогресса. Д. И М. Пишут великие книги, по
три штуки в год с перерывами на le croacion du mondeª Пушкина уже скинули с парохода современности. Как
балласт, но в школе его стихи все еще
зубрят. Жизнь идет своим чередом, и только Хармс по-прежнему ничего не пишет.
Он лежит на потолке и курит дорогие
сигареты, украденные у зазевавшегося портеньё.
В общем, мир полон поэзии и музыки.
* * *
Моя душа переполнена
действительностью. Возможно, я просто перебрал кофе, или черт его знает, что
тому причиной. Стены давят на меня своей определенностью, свои постоянством.
Надо вырваться, прорваться, или наоборот, приостановить это бешеное вращение
вокруг собственной оси, где кроме меня и вакуума уже нет ничего.
Где только астральные цветы
прорастают сквозь загрубевшее полотно пространства, и сам ты – лишь почва их
корням, лишь удобрение их вознесения, лишь повод для их молчаливой насмешки,
осененной то ли вечностью, то ли равнодушием.
* * *
Бедные карлики.
Бедный прево
с засаленной полоской, некогда белой. Теперь цвета индиго под воротником.
Бедная вера в Бога. О нет, Бог,
разумеется, существует, но верит ли он в нас?
Бедный обедненный уран.
Бедная Лиза, ты обязана своим
несчастьем имени и авторским право кого-то там, и этому пруду, где ты когда-то
плакала над своим именем, а теперь выгуливают писающих собачек.
Бедный тюльпан, тебя сорвали, не дав
достроить храм Вудстока.
Бедный мир! За что мне твои
сомнения, за что дано понять, не понимая и постичь не прикасаясь. И остаться
самим собой, как мыс Горн, как плач по Дракуле, как муравей, испивший крови
Христа на закате месяца Ершалаим, но оставшийся
муравьем, как Пинокио, оставшийся с носом.
Прости меня Бог, я грешен, я
совершил преступление против имени твоего и раскаялся. Я лишь еще одна овца в
отаре твоей, Господи…
* * *
The conquest.
Идальго, со слезами лихорадки на
потном лице. Я вижу тебя, но ты не видишь меня. Потому что с одной стороны от
нас тень твоей скорой смерти (и у нее лицо ацтека), а с другой – тень моего
рождения (о, это произойдет еще очень не скоро, но это уже предопределено). Я
хотел бы задать тебе много вопросов, например: почему ты лежишь на этой грязной
циновке, а не бродишь устало по улицам Мадрида; почему ладонь краснокожей
рабыни так холодна, а песок так равнодушен; зачем тебе столько золота, если
завтра в твою хижину придет ацтек с африканским асса гаем (ибо Америку и Африку
породнило рабство); как имя той каравеллы, что несет тебе письмо любимой, лицо
которой ты уже не можешь вспомнить…
Но я обязан сохранить инкогнито,
ведь я еще не рожден, а ты еще не умер, и твой южный крест – такой же призрак,
как туманы Тауэрского моста в год убийства последнего
на планете бизона. Но – браво Идальго, по крайней мере, ты нашел в себе силы
прямо смотреть в лицо своей ветряной мельницы…
* * *
Итак, после нескольких попыток, я все забрался на веранду
кафе «Домино». Вообще-то, морозит еще во всю, и на веранду никого не пускают
без особых причин; тут даже снег не убирают. Но от сюда, если занять столик у перил, прекрасно видно ущелье улицы Хлебникова, и значит я. Если не стану отвлекаться, ни как
не пропущу желтолобый, похожий на ужа, трамвай,
маршрута «Года-Годо».
У меня нет ни какой уверенности, что Она сядет
сегодня именно в этот трамвай, и именно тогда. Когда я буду видеть на веранде
«Домино», но это, по сути, не важно. Город насыщен символами, как весенняя
земля влагой, и символичность действия здесь – первостепенней
самого действия. Все ведь просто. Надо дождаться трамвая, кинуть ему под колеса
букет белых тюльпанов и конверт.
С праздником, любимая, пусть твоя
трамвайная душа не знает покоя при жизни, потому что покой всегда где-то рядом
со смертью. Однажды я найду в себе силы отказаться от всего и шагну на шаткую
подножку. А пока хватай эти цветы и улыбнись для меня… Я этого не увижу, но это
и не важно.
* * *
Мы все отравлены междуречьем. Это
как зловоние прекрасной орхидеи, как тонкий аромат невзрачного эдельвейса.
Мартовское солнце – скупое солнце, но нашему междуречью достает и этого малого
тепла, чтобы застыть перед выбором: красота или аромат. И мы, конечно, выберем
аромат. Во-первых, так легко закрыть глаза, а во-вторых, потому что ветер. Приходя
с гор, несет свежесть, а в лепестках эдельвейса, несомненно, живет ветер. Ergo…
* * *
Башня университетской
обсерватории похожа на гигантский леденец на палочке, этакая бетонная трубища, украшенная мозаикой и мраморной крошкой, а на ней
чудом сохраняет равновесие гигантский хрустальный шар. Но не это меня тянет в
это мертвое место (мертвое, потому что даже шаги редких прохожих не в состоянии
его поколебать).
Я бреду мимо серебристой стены
университетского цирка, прохожу одной из многочисленных арок, и – вот она,
башня обсерватории, у подножия которой кто-то вывел мелом то, что ни жара, ни
дожди, ни снег не смогли стереть: надпись лишь потускнела, но в яркие солнечные
дни буквы впитывают силу невидимых звезд и начинают пламенеть над асфальтом
тайною своею:
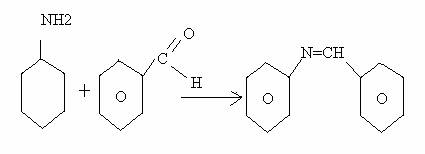
* * *
Для тайцев царь зверей сингха –
защитник, который дарит людям покровительство высших сил.
Сингха,
алый лев, ты снился мне под утро. Но потом пришла черная буква, и звезда стала
сверхновой, а я разбился о банальность звона будильника.
Но все-таки я видел тебя, сингха.
* * *
Я не люблю тишину и с трудом ее переношу. По этому, когда
на улице становится темно, и ночь пытается влезть в мою квартиру, я, прежде чем
сесть за рукопись, включаю музыку из вчерашнего дня, включаю джаз, как ни
смешно сегодня это звучит.
Потому что джаз, с одной стороны,
сродни тишине, а с другой – все-таки не тишина... Он не мешает, он существует
на периферии чувствительности моего сознания. Чуть ближе, и музыка начнет
глушить мысли, чуть дальше – и останется только тишина. Джаз не пересекает этих
несуществующих границ и поэтому он идеален для ночи, хотя днем совершенно не
интересен. Днем нужна энергия, а джаз несет в себе воспоминание о тишине.
* * *
Его жизнь – загадка для меня и для всех, кто с ним знаком.
Он приходит утром, едва засветло, точит ножи, выкуривает сигарету из запасов
хозяйки (с которой у него что-то определенно есть: не зря ведь она краснее при
любом упоминании о нем), после чего уходит в свою одинокую берлогу, которую
снимает где-то на маяковке (по слухам). Четырежды в
год ему приносят почту, но это всегда счета. Иногда он покупает у соседей
книги, но даже они не помнят его имени. А я слишком крепко сплю по утрам.
* * *
Весна!
Сегодня я прошел от подъезда до
магазина, ни разу не наступив на снег. Шел по асфальту, по мокрой земле, по
битому стеклу, хотя –
-
Жульета Бинош сыграет в фильме… не
помню названия, но что-то там про апрель. Сейчас, правда, март. К тому же, если
честно, не уверен, что это будет именно Жульета Бинош –
-снег
все же был, но при определенном старании и сноровке вполне можно пройти от
подъезда до магазина, не разу не наступив на снег.
* * *
Ближе к ночи папоротники вступают в сговор с
тенями... Они хищно выгибают свои спины
стебли и начинают принюхиваться. При этом ни одного движения, только кадры:
вот, просто домашнее растение, а вот их стебли уже оплели твое горло. И запах
мускуса, как от оборотня в ночь полнолуния.
* * *
Три дня выходных, плюс – явно
потеплело. Можем занести в тот же список новый одеколон, и новый, вроде бы,
галстук.
Иду, в меру торопясь, по
переполненной улице девы Орландо. Весь Город спешит
параллельно мне в сторону театра, спешит спрятаться за витражи его кленовых
листьев: алых, золотых и молочно-синих. В этот день даже на дверях пиццерии Блёзилье висит табличка «closed». Все спешат на набережную, все бегут к театру. Ведь
там решились замахнутся на самого Меттерлинка, будут
ставить «Синюю птицу». Разумеется, детям до 14 вход запрещен, но дело, конечно,
не в эротике. Какая к черту эротика в «синей птице» просто ребенок не должен
знать о смерти.
От пассажирской пристани спешат
гардемарины в парадной сине-зеленой форме.
И среди них, свой среди своих, спешу я, сквозь
весну, сквозь одеколон и выходные, по новому галстуку. Мне нравится, я почти
чувствую себя немым.
* * *
Оказывается, ночью снова выпал снег…
Салат из свежих помидоров и огурцов
смотрится нелепо в этом белом окружении... каждому овощу - свой сезон. Зима –
время мандаринов, крабовых салатов, оливье и винегретов. И консервированной
кукурузы Бандюэль, эрзац натурализма, умятый жестяной
цилиндрик, но бесподобный и незаменимый среди ветра, вьюги и низких звезд.
И еще зимой заметны следы похорон.
Эти еловые лапы по утреннему белому снегу. Летом все теряется, замазывается
общим цветом. Зима слишком скупа на цвет…
* * *
Добрый ли ты человек, Человек? Волна вот-вот доползет до
твоих ног, ведь море не замерзает. Никогда: ни зимой, ни после премьеры «Синей
птицы». И Луна тоже блуждает невзирая ни
на смену времен года, ни на прочие раздражители. Потому и прилив неизменно
сменяется отливом, как безудержность эмоций глухой меланхолией.
В воздухе растекаются первые намеки
на сумерки. Такие слабые, что в Городе их не заметить. Н здесь, рядом с морем,
под этим пронзительным ледяным ветром, так и бросается в глаза – скоро вечер.
Добрый ли ты человек, Человек?
В такой вот вечер исчезла Атлантида.
Н погибла, нет. Само имя – Атлантида -
надежный оберег от гибели. Атлантида способна только исчезнуть, стать
тайной, мифом, легендой, туманом.
Так добрый ли ты человек, Человек?
* * *
И все же Пикассо менее значителен в моей жизни, нежели
Юджин Второй. Безусловно, Пикассо велик, Пикассо революционен, нежен и
патриархален. Его картины всегда выше Багета. Но о Юджине втором я не знаю ничего.
Я даже не знаю, существовал ли он когда-нибудь. А если существовал, то почему
его не называли Пикассо? Поэтому все мои мысли о нем, а не о Пикассо.
* * *
Театральные программки еще кружили над городом. Снова
задул норд-ост. Этот ветер всегда приходит со стороны Северного маяка и на
мостах над каналом он особенно пронзителен. Но я лишь пробежал через мост
Рамаяны – о, как он качается на ветру. Мне нужна улица Мараста
и Николь. Там ветер почти не чувствуется, особенно если идти близко к домам. Но
и там холодно.
По сути, мне все равно, куда идти. Но слишком
холодно, чтоб просто гулять и я решил забежать в «Домино». ЯЧ всегда спасаюсь
от холода…
… и одиночества…
…и от поиска смысла жизни…
… и от желания влезть на перила
моста…
в
«Домино».
Но в основном все же от холода…
* * *
И круг, единожды очерченный рукой, имеет право на
хранение тайны, и даже те, кто въезжал на холм Прозе ария, не способен на
КОНЕЦ КАРМИНОВОЙ ТЕТРАДИ
« ЧЕРНАЯ ТЕТРАДЬ»
-
Что вы знаете о
цвете?
-
Ничего.
-
Тгда чего же вы хотите от меня?
М.Фермен
«Пчеловод»
Эни-бени-рикитаки-
с десяток гаражей в глубоком дворе
колодце, зажатом между двумя красными и двумя грязно-белыми пятиэтажками хрущевками.
-
карасбуль-барики-смаки-
нас тоже где-то с десяток, все не старше 12-ти лет. А в промежутках
между гаражами железный лом, битое стекло, доски разобранных палет.
-
энс-бэнс-кубатэнс-
и нужно пробежать по этим гаражам так, чтобы тебя не
догнали, перемахнуть через эти переполненные ломаной смертью промежутки и
остаться живым хотя бы еще лет на 60-т.
-
бэкс-
Потому что там, впереди, по сути, жизнь. Довольно
глупая штука, но почему-то с глупыми вещами труднее всего расставаться.
* * *
Мир
безнадежно состарился. Это так же верно, как и то, что сам я надолго завис
где-то в пятнадцатом году. В этом пропитанном чахоткой и кокаином периоде,
освященном голодом, счастьем и поэзией. Романтика поэтических вечеров бьется в
моей крови бабочкой махаоном: на три четверти, но с едва заметной синкопой.
Зеленая лампа по прежнему тускло светится на подоконнике, хоть и разобрали уже
паркет для растопки «буржуйки», и нет-нет, да и поглядываешь на многочисленные
тома чужой библиотеки: бумага, огонь, тепло, несколько минут без озноба. И все
же, не смотря ни на что, рифмуешь настроение, переносишь его на желтые
тетрадные листы, дышишь размерами, изобретаешь, экспериментируешь, хлебниковствуешь.
Мир
безнадежно состарился, и я не льщу себе надеждой на то, что, умирая, он не
вспомнит меня, но сам стараюсь стереть из
своей памяти все, и девятнадцатый год, и холод, и счастье, потому что если я умру и ничего не вспомню,
то ЭТО останется жить и однажды вернется. Может даже вернется за мной.
* * *
Терапевтическая клиника сна: сто на
сто квадратных метров, две тысячи кроватей, все – односпальные.
Женщина в одежде монахини, но цвета индиго, обходит
сладко посапывающих клиентов, поправляет одеяла, что-то тихо шепчет на ухо тем,
кто спит особенно неспокойно. В ее руке, само собой, два зонтика: белый и
черный. Терапевтика признает как добро, так и зло. Впрочем, за поясом у
монахини (если она действительно монахиня) красный веер…
Окна-витражи плотно закрыты, некоторые зашторены.
Никакие звуки из внешнего мира сюда не попадают, ничто не мешает, не беспокоит.
Монахиня проходит в самый темный угол залы и
неторопливо усаживается в огромное (так и хочется сказать двуспальное) кресло.
Оба зонта кладутся на пол. До лучших времен. Женщина берет массивную книгу в
темном бархатном переплете и начинает перелистывать страницы. Но глаза ее
недвижны, и на книгу не смотрят. Может быть она слепа? Книга полна скабрезных
иллюстраций, ее текст – греховен по содержанию, но безобиден по сути. Женщина
что-то шепчет, но видны лишь движения губ. Да изредка сжимаются пальцы левой
руки.
Когда она встает, платье монахини вдруг меняет цвет и
становится молочно-голубым. В чертах ее лица появляется что-то отталкивающее,
равнодушие сменяется холодной яростью. Она подходит к ближайшей кровати и
зажигает над нею свечу. Все остальные клиенты продолжают пребывать в полумраке.
Платье снова меняет свой цвет, оно становится черным.
Теперь-то женщина узнаваема, теперь-то ее ни с кем нельзя перепутать, но что
это меняет. Легче, конечно, представить ее с косой в руках, безносой,
морщинистой, сгорбленной. Но все это глупость людская. В действительности, она
– прекрасна, эта женщина. Она единственная способна сохранять тайну свою и быть
вечно притягательной…
* * *
Мозг убитого усталостью человека – страшная штука.
Намного страшнее скажем, ядерного распада, ведь ядерный распад предсказуем, а
усталый мозг способен выдать что угодно.
Я гляжу на побег монстеры, но вижу доисторические
равнины, поросшие жесткой оранжевой травой, на которой три опьяненных кровью
махайрода[1]
терзают несчастного человека-птицу.
Я вижу багровый закат над
первобытной саванной: время алых змей и скорпионов цвета маренго.
Здесь все пахнет кровью, убийством.
Но, как ни парадоксально, поэтому и жизнью.
Иногда и мне кажется, что я видел
«Как рыжая
поднялась обезьяна,
И волосы поправила рукой…»
* * *
Улица Карабинеров…
Огромный, в мой рост валун, принесенный еще в ледниковый
период только для того, что бы однажды на нем повесили мраморную табличку:
«Здесь в __34 году проходила последняя линия обороны мятежного отряда
карабинеров, под командованием гвардии-подпоручика Исаевича. Карабинеры
сдерживали силы порядка в течение 48 часов, после чего выжившие сложили оружие.
Гвардии подпоручик Исаевич был лишен воинского звания, всех наград и
привилегий, и сослан в Энск-на-Лене. В __90 его
полностью реабилитировали по решению свободного парламента города».
Вот и все.
Только ветер иногда обметает огромный валун ледникового
периода.
И приходит на память: «Крикнул ворон – never more.» Но
это, кажется, совсем из другой оперы…
* * *
Я знаю только несколько человек, способных писать красными
чернилами по молочным листам и не стариться раньше времени. Имена их не имеют
никакого значения, хотя бы по тому, что никому ничего не скажут. Суть в другом.
Красные чернила в принципе не несут в себе осмысленности написанного, так же
как и те, кто способен читать красные
литеры и составлять из них слова, не способны обнаружить истинного смысла
написанного, поскольку тот скрыт под смыслом ложным, а это есть безусловное
зло. Готов поверить, что писавший, скорее всего. Не стремился принести, кому бы
то ни было вред, но факт остается фактом. Читающий не остается в неведении, он
остается в ложном понимании написанного, обманутым, что однажды, разумеется,
скажется на его линиях и параллелях. Естественным путем избавиться от
нанесенного вреда человек не способен, если не считать выходом смерть. Таким
образом, прочитавший алые литеры обречен на умирание обманутым, и вечные
сомнения после смерти…
* * *
Я сидел в «Домино» и
размышлял о ловцах снов П. Мне всегда
нравились его идеи, ровно на столько, на сколько не нравились книги в целом.
Что касается этих самых ловцов снов, так ими я чуть не на сутки заболел. Даже
механический соловей, гордость «Домино», привезенный якобы аж из Лапландии, не
мог отвлечь меня от мыслей. Не самых надо сказать радостных мыслей. Мне
почему-то совсем не улыбалось, чтобы кто-то ползал в моих снах, которых я не
без оснований всегда полагал своей собственностью, неприкосновенной для
посторонних ни при каких условиях. Я, видите ли, придаю огромное значение своим
снам, хотя и не верю, что они являются знаками, просто они мне нравятся
настолько, что делиться ими меня просто не тянет. Я, правда, большую часть
снов, как правило, забываю, но ведь, согласитесь, забыто – еще не значит не
мое, так? Поэтому мысли мои были совсем
не радостны.
К тому же меня занимала странная
дилемма. Дело в том, что почт все описываемое П. представляется мне исключительно символами, вуалью, за
которой скрывается истинный смысл сказанного/написанного. А вот с ловцами снов этого
не произошло. Я, почему-то, сразу и безоговорочно поверил в их существование.
Без всяких на то причин (по крайней мере, мне их обнаружить не удалось). Это по
настоящему меня напугало, поскольку, как известно, то во что мы верим -
вещественно. То есть, если кто-то не воспринимает, скажем, того же
механического соловья. Не верит в него, так для него этот соловей и не
существует. Так и для меня ловцы существует, и не важно, является ли это
истинной, или только моей слепой верой.
По этому вот уже четвертую ночь
подряд я кладу под подушку ветвь вербы и цветок гиацинта, которые, как
известно, являются лучшими замками для снов. Но если уж взламываются банковские
сейфы, так и верба с гиацинтом – не абсолютная гарантия.
Жаль только, соловья я в тот день
так и не послушал, хотя пришел в «Домино» именно для этого…
* * *
Сиротливое ощущение вечера.
Где-то за стенами, наверное,
синева во все небо, но здесь нет окон, сплошной бетон и аляповатые календари на стенах.
Человеки говорят по телефонам, спешат завершить то, что
запросто можно сделать и завтра, но – привычка, вечная боязнь, что завтра будет
поздно: и самолет улетит, и поезд отъедет, и все без тебя, все с кем-то другим…
Огромный спасательный круг –
равнодушие. На самом-то деле просто сил не осталось на чувства. На сочувствие,
на прочувственность и на все остальные слова с корнем
«чувств». Потому что усталость – подобно крыльям за спиной, но крылья несут
вверх, а усталость вниз-вниз-вниз…
И во рту привкус якобы
виноградного сока…
* * *
Аутентичных портретов гвардии-подпоручика Исаевича не сохранилось.
Понятия не имею, уничтожали ли их после его казни, или их просто никогда не
существовало. Есть правда некая гравюра
в галерее адмиралтейства, которая, как полагают, изображает именно этого
человека, но, во-первых, это не доказано, во-вторых, в результате какого-то
затерянного памятью происшествия, гравюра была сильно повреждена водой, в
результате разобрать что-то конкретное
не возможно. Ходят так же слухи о некоем эскизе, который сделал один из
карабинеров отряда Исаевича, бывший студент-художник. Она, по слухам, хранится
в доме Николая, чьей изысканно-жирафовой тени я так искренне завидую. Но
никому, насколько я понял, неизвестно, где именно Николай проживает, и откуда
вообще взялась эта байка об эскизе.
Поэтому я особенно не придаю этим слухам значения.
Не так давно Николай побывал в кафе «домино», сидел за
столиком у окна, пил горячий глинтвейн (впрочем, не горячий глинтвейн, это как
горячая водка), расплатился шиллингами и динарами, предложил хозяину заведения
трофей на стену – голову огромного североатлантического носорога (хозяин
предложения не принял) и ушел. Никакого портрета при нем не было, а прямо из
кафе Николай направился в Анин сквер, где долго бродил с грустной улыбкой на
лице. После сквера покойный поэт заскочил ненадолго в пиццерию Блезилье, где сделал то же самое предложение Аугусто Блезилье (на этот раз оно
было принято). Из пиццерии Николай торопливо проследовал к каналу, где заскочил
на первую же баржу под флагом североатлантического союза. При себе он имел
охотничье ружье «семь колец», пробковый шлем-сафари и томик стихов А.А.
«Перчатка с правой руки». Никаких эскизов с ним не было.
Да, кстати, дул сильный тропический ветер, заставлявший
таять снег и просыпаться ленивых пока мартовских кошек.
* * *
Духи башенных зубцов поклоняются восходам, считая их
чем-то вроде ежедневного чуда. Но к закатам при этом никакого пиетета не
испытывают, считая их вполне обыденным делом.
Возможно, восходы являются
олицетворением материнского начала духов башенных зубцов, и тогда. Используя
формулы известного доктора, их можно объяснить заложенной матриархальностью.
Птицы, перелетая с одного зубца на
другой, переносят пылинки фольклора, мельчайшие частицы легенд, того, что
ученые люди называют stones
faire tales.
Птицы, по семы считаются духоприказчиками, и первые
из них – голуби-игруны.
* * *
-
Можно ил считать
человека – субъектом времени? - лектор в
фисташковом галстуке медленно вышагивал по кафедре, устремив взгляд внутрь
себя.
-
Можно ли считать
время – объектом силдонаправленности человека?
Аудитория притихла, отчаянно пытаясь успевать и
конспектировать и осмысливать, и не успевая ни того, ни другого. Тем более что
в сгущающихся сумерках было видно, как посверкивает на балконе Университетской
Обсерватории автогеновая сварка. Вспышки отражались в
гранях гигантского хрустального шара и рикошетом разносились в пространство,
заполненное вечерними сумерками. Изредка доносились звонки курьеров
велосипедистов, еще какие-то звуки, характерные вечернему часу. В общем, масса
отвлекающих моментов.
-
Совершенно
очевидно. Что человек, как существо прогресса, не способен жить вне времени. Не
записывайте, это момент не интересует нашу науку. Но вот вопрос, существует ли
время вне человека? То, что определенная периодичность, проистекание
следствия из причины –сохранится. Но будет ли это временем? В той ипостаси, в
какой видим его мы, люди?
Студент с мишенью на спине откровенно скучал. Он уже
перестал пытаться что-то записать и уж тем более осмыслить. Его тянуло к
мольберту, раздражал фисташковый галстук, и донимала духота. Что-то видимо
полетело в системе отопления. Что-то видимо полетело в этой чертовой вселенной,
думал студент-художник, раз уж я вынужден выслушивать весь этот бред. И словно
вторя его мыслям, кто-то хрипло крикнуло с балкона обсерватории: «Мольтке, баста! Скручивай провод!»
* * *
Земля, размером с пылинку, спрятанная в кармане ребенка, стоящего на земле,
размером с пылинку, спрятанной в кармане ребенка.
И великая звезда Мебиуса, светящая с
севера тем, кто идет с юга. Но в конечном итоге всегда снова на юг
возвращается.
И журавль. Несущий взрослому
человеку ребенка, чтобы тот (ребенок) повзрослев, тоже стал дожидаться своего
аиста.
И так бесконечно.
И только Земля имеет форму овала.
* * *
В воскресные утра. Когда еще можно спать, но уже не
спится, мне почему-то часто становится жаль то, что когда-то принадлежало мне,
являлось моим символом. Но было позже утрачено.
Так, мой музей заоконной
обуви (всю обувь, дошедшую до состояния развала, я выставлял в специальную
корзиночку под подоконником) достался каким-то незнакомым людям, при переезде
из коммуналки в квартиру.
Моя старая, раздавленная рюкзаком
гитара осталась в доме моего детства, и хотя он стоит до сих пор, но это уже –
не доим моего детства, а значит и гитара, которая до сих пор там валяется – уже
не моя гитара.
Весь мир забит утраченными
символами, с этим приходится мириться.
И все же воскресным утром ко мне
приходит жалость, и она так же хорошо ощущается, как тепло любимой женщины
справа от меня.
* * *
Только курильщикам трубок.
Чрезмерное употребление никотиносодержащих
веществ чревато… и т.д. и т.п. Но аккуратно завернутый пакет с «Amphora» несет в себе неразрешимую дилемму. Да или нет? Оранжевая полоса или черная? Придется
забивать трубку? Будет ли это долго и натужно, с кашлем или просто усталым
вздохом?
Раскуривая…
Застегивая Ей молнию на платье
Вглядываясь в лица прохожих
Покупая
пакет с оранжевой полосой и надписью «Amphora»обещающей
золотой вкус. А значит и молния на ее платье – от кончика волос до маленькой
родинки на пояснице – имеет самое прямое отношение к пакету с оранжевой полосой
и надписью «Amphora»…
* * *
Итак, это будет роза Ее имени, поезд
на Девахан, владыка мира Тру, и бесконечная надежда
на то, что бумага выдержит, а человек поймет. Да и Бог не осудит. Время есть,
время ждет и терпит. Всегда можно врубить шредер сознания отказаться, кнопку «reset», кнопку “delete”.
В конце концов, можно просто забыть. Плюс, орфографические ошибки, которые я
так и не совершу…
* * *
«Тот, кто выходит в путь этой
ночью…»
Странное имя. Когда-то так звали
Николая, потом меня, однажды назовут художника-студента с мишенью на спине, да
и каждого, в общем, однажды так назовут.
Рано или поздно наступает момент,
когда тело начинает рваться за двери дома, а душа подстегивает его. Когда
появляются стихи о птице и звере когда схемы оказываются ложными или неточными.
Нужно-то всего ничего: найти Ее,
едущую в своем трамвае, имеющую тысячу имен: Анна, Евгения, Мария, - но всегда
скрывающую одно настоящее.
В этой встрече не будет смысла, но бездействие
– еще более бессмысленно. И все мы однажды предпочитаем сделать бессмысленный
шаг, лишь бы не сидеть просто так, не ждать, когда сдвинуться с мертвой точки
минутные стрелки часов.
Затем каждый из нас приходит к
калитке своего собственного сада. Это может быть сквер Ее имени, кафе,
трамвайные пути маршрута «Года-Годо», перила моста
Рамаяна, который так и раскачивает в ветреную погоду, стены университетской
обсерватории, на которых так просто рисуются эскизы к антрацитовым статуям.
А все остальное, по сути, не
существенно… несуществующе.
* * *
Их на самом деле было не так уж и много, и карабинеров
пока спасало лишь то, что силы порядка купились на
дезинформацию о численности отряда мятежников. Впрочем, теперь это уже не имело
значения. Помощь от революционных матросов не пришла: все их пламенные речи и
обильные жестикуляции так и остались речами и жестикуляцией.
Исаевич оглядел остатки своего
отряда: чуть больше двадцати человек. Десять патронов на каждого. Плюс
бессонница, голод и безнадежность, которую теперь понимали все. Можно отбить
еще одну две атаки. Но в этом уже не было смысла. Мятеж, по сути, был подавлен уже в тот момент, когда карабинеры
засели на окраине города, окружив свой лагерь баррикадами. Тогда их было больше
сотни. Впрочем. Теперь и это не имеет значения.
Георгий Вазнакис,
грек, бывший студент-химик, считающий себя художником, как и все студенты,
торопливо черкал что-то углем на куске картона от шляпной коробки. Чуть позже
этот набросок сыграет свою роль, но не здесь и не теперь. Потому и он пока не имеет значения.
Утро неторопливо окрашивает небо
кармином. Чертовски красиво и обреченно. Ни чего не изменилось, и это,
наверное, единственное, что теперь имело значение. Но думать об этом было
некогда, потому что еще немного и…
Смертельно уставший бывший гвардии
подпоручик Исаевич должен опередить тех, кто поведет силы порядка. Впрочем, не
для себя. Потому что ему помочь уже не мог никто. По крайней мере, не здесь и
не сейчас.
* * *
Такие моменты приходят всегда неожиданно. Просто в одну
не всегда прекрасную минуту ты вдруг обнаруживаешь себя сидящим за столиком
перед небольшой эстрадой. А на ней несколько музыкантов в сине-зеленом костюмах
беззвучно выгнулись в немом свинге. Но ни одного звука не долетает до тебя.
А на пластике басс-бочки
выведено слова JAZZ, и оно тоже выгнуто. Кто-то
смотрит вместе с тобой из зала, кто-то раскуривает дорогую сигару, кто-то плевать хотел на сухой
закон и слухи о грядущей войне с Германией.
Где-то в Париже соберется в
последний раз клуб Змеи, а в Москве мне не удастся создать точно такой же,
потому что каждый будет занят своим одиночеством.
А я просто буду сидеть перед эстрадой, не
осознавая. Что сине-зеленое пришло в Город, чтобы ужиться с антрацитом. И не
противореча ему, уже улеглось на боку свай моста, недалеко от мраморных львят.
* * *
И только единожды коснувшись легенды не стать ее частью,
но сердце отравить мечтою. Уедет всадник ни с чем. Потому что холмы Прозетария даруют, но дар их – наказание мечтою, которую
КОНЕЦ ЧЕРНОЙ ТЕТРАДИ
«ТЕТРАДЬ БЕЗ ОБЛОЖКИ»
Глядя на меня с усмешкой бродячего циника-пилигрима,
время лишь отслеживает мои ошибки, но не стремится их исправить... Ведь даже
ошибки для времени прах.
Утро, вечер – едино.
Лишь мечта неодолима для времени, но
и она бессильна перед черным знаменем конечности путей и беспамятства.
Черны крылья белой чайки, черна
волна-охотник, черно небо на дне колодцев. В этом и смысл и бессмыслица.
* * *
Замки все чаще становятся дымом.
Боль все чаще остается болью.
Рифмованные строки уже не
подчиняются механизму движения душ, но зависят от опыта, техники, мастерства, короче – от чисто физических
моментов. Совершенно не принимая метафизики. Поэтика исчезает в шестеренках..
без тайны она мертва, как человек без Бога.
Ведь суть не в замках и тем более не
в дыме. Поэтика где-то там, где уже нет замков, но еще и не начался дым. А боль
тут вообще не при чем. Боль – достояние дантистов и мертвецов. Поэт. Рожденный
болью, это мутант прогресса.
И я не желаю быть поэтом.
* * *
Итак, занятнейшая мизансцена.
Небольшое кафе на пересечении улиц Тихого ангела и Хлебникова
(боже мой, Тихий ангел и Хлебников трансценденция в
плоти мостовых Города).
Весна, слишком похожая на зиму, с морозом, снегом.
Озябшими ногами, плохими записями Пети Мамонова. С температурой, упорно
цепляющейся за
-10° С. Без причин и Гольфстрима.
И три человека. Это и «Чайка», и Калифорния, и «Экзамен».
ВАТИКАН
(рассказ в романе)
Утром я покрасил оранжевой краской, в стиле хинди,
пробор у себя на голове и решил покинуть город.
М.Павич
«Звездная мантия»
ПРОЛОГ
1. Я живу на окраине Москвы. Из моих окон виден МКАД.
Она
живет на окраине Москвы. Из ее окон виден Царицынский лес.
В нашей квартире стоит огромный стилаж с книгами, статуэтками умерших богов (священная
коллекция). Парой цветочных горшков. Но книг больше... Одна из них – на самой
верхней полке – сборник стихов мертвого поэта. Рядом – сборник мертвой
поэтессы... Но не только смерть сближает их.
Рядом со стилажем
– письменный стол. Совсем старый, за ним когда-то училась Она. Этот стол хотели
выбросить, но я не позволил. У меня какое-то
неоправданно трепетное отношение к старой мебели. Теперь этот стол – мое
рабочее место.
Над ним висит картина с красными кошками и
Ей фотография.
2. Я сижу в кафе «Домино» на пересечении двух улиц. То –
не раздвоение личности, и жители Города меня поймут. И Х.К. поймет тоже, иначе
ему не следовало браться за 62-ю главу. До остальных мне не дела.
Она
едет в одном из своих трамваев по переулку правой перчатки. И этот тоже не
раздвоение личности. В Ее руках сигарета. На соседнем сиденье этюдник и кем-то
забытые часики.
Николай
плывет на одной из своих любимых барж (это корабли ходят, а баржи плавают), в
видимости пассажирской пристани.
Если
точки соединить, то одна линия пересечет театр «кленовые листья», вторая –
церковь Седьмого колокола, а третья -
мост большого Маольна и красных кошек. Все,
что попало случайно в границы этого вытянутого треугольника. На мгновение
превращается в слова. Но лишь на мгновение.
ВАТИКАН I
Осененный сумерками Город… Освещенный сотней
фонарей…Освященный чистотой Ее глаз, глядящих из-за стекла трамвайного окна в
синеву переулка. В этот вечер Ей дан шанс выяснить смысл безумства весенних
звезд. Стоит ли любовь – слепого случая? А случай – стоит ли он равнодушия
судьбы?
В этих сумерках молчит кондуктор и молчит вагоновожатый.
В этих сумерках устало молчи Она…
И только трамвай маршрута «Года-Годо»,
этот вечный трамвайный мальчишка, звенит всеми частями своего
электромеханического тела и радуется каждому мгновение весны, пути и Ее
присутствия.
Город неторопливо гасит одно окно за другим, зашторивает
сотни штор, потому что спектакли кончились, а сценам необходимы занавесы…
Она въезжает в сумерки на трамвае маршрута «Гадо-Годо» и безумные звезды несут корону Ее печали…
ВАТИКАН II
Чертовски важно выбрать одну определенную баржу,
постоянно быть в курсе ее местонахождения, заранее выбрать место встречи, и
точно высчитать ее время. Кроме того, нельзя забывать об обязательных мелочах,
о том, что принято называть условностями.
Николай всегда действовал одинаково. Первое – это
заключение контракта на доставку трофея. Это действие необходимо в качестве
якоря: появляется причина вернуться туда, куда вернуться необходимо. Ведь, по
сути, везде, кроме Города, Николая нет. А значит рано или поздно в Город
придется вернуться. Что бы быть.
Далее необходимы элементы несуществующей тайны. Это и
чилийский песо в левом кармане пиджака сафари, и старый, пожелтевший уже лист
картона с наброском портрета гвардии-подпоручика Исаевича, который всегда
оказывается в пассажирской каюте выбранной заранее баржи... И, наконец, это
вечное стремление уйти из Города, искреннее стремление, не наигранное. Только
тогда уход и возвращение связываются не только технически и метафизически, но и
на уровне ощущений. На уровне условностей, если хотите.
ВАТИКАН Ш
А я просто зашел в
«Домино» послушать механическую канарейку. Во-первых. Потому что мне вдруг
надоела поэтика весенних сумерек, безмятежность и никуданеторопливость.
Мне надоела воля, и как-то вдруг захотелось стен и потолка, захотелось
ограниченности, пусть хотя бы зримой.
Во-вторых, мне стало очень тяжело от условности,
придуманной мною же самим. Впрочем. Все условности изобретаются самим
человеком, от того от них так тяжело избавиться. Я словно параноик, шарахаюсь
от трамвайных путей, пугаюсь, обнаружив в своих карманах картонные
прямоугольники трамвайных билетов. И в то же время я никогда не отхожу далеко
от трамвайных маршрутов. От всего этого я чертовски устал.
Ну и, в-третьих… Это трудно объяснить. Это какое-то
размытое, аморфное ощущение, ничего конкретного. Но в этом ощущении и тоска по
Ней, и страх шагнуть в трамвайную пасть, и эта неопределенность с портретом... Короче все то, что кружило в
последнее время, словно белые мухи, над моей стремительно седеющей головой.
Да… Есть еще и четвертая причина. Но я боюсь обращать ее
в слова. Потому что тогда три уже описанные причины превратятся сначала в
туман, потом в росу на траве и мостовой, потом в ничто…
ВАТИКАН IV
В середине марта ударили сильнейшие морозы. Ненадолго, но
и этого хватило. Потом погода меняла настроения, как флажок над диспетчерской
взлетного поля.
Перила обоих набережных то становились белыми от инея, то
мокрыми, когда все таяло, то разогревались до такой степени, что притронуться к
ним было невозможно.
И все же Николай слегка проводил по ним ладонью. По белым
от инея, по мокрым от таяния, по горячим от незнающего меры юного весеннего
солнца.
Нет, это не было условностью, не было необходимой
мелочью. Это была маленькая синтементалинка метрового
поэта, который осознает, что вот уже почти век его помнят, но никто не знает.
Иногда ему кажется, что Она бы обязательно делала так же
- проводила рукой по перилам. Или, как
та странная девушка, днями на пролет каталась бы на трамваях.
Но Она конечно,
никогда бы не покинула город. Ведь женщинам гораздо труднее осознавать себя
мертвыми. Осознать себя трупом трудно даже мужчине. А для женщины… Она ведь с самого
начала задумана слабой. И питаясь этой слабостью женской, мужали юноши, чтоб
творить колесо, вселенные, человека, изысканного жирафа.
Может, именно эту
слабость ты и заметил в Ней тогда…
ВАТИКАН V
Юноша студент, тот самый, с мишенью на спине, вошел в зал
так стремительно. Что я просто не смог его не заметить. Несколько раз, обежав
взглядом зал (свободных столиков в этот час хватало) Он как-то неуверенно
направился к дальней от входа стене. Там стоял пустующий столик, или если быть
точным, пол столика: полукруг столешницы как бы утопал в зеркале, продолжаясь
вторым полукругом, несуществующим, зазеркальным. И
поэтому вечная ваза была в форме восьмерки.
И я снова вспомнил 62-ю главу, и мне стоило огромных
усилий не крикнуть на весь зал: «Официант! Замок с кровью!»
Разумеется, я не крикнул. И не потому что в этом поступке
было бы больше пафоса и злости, моей усталости и недовольств чем символичности.
Просто в "Домино» стояла такая волшебная, чуть гудящая тишина, что
разрушать ее было равносильно богохульству всех религиозных конфессий разом.
ВАТИКАН VI
Непередаваемо словами ощущение, когда я вижу Ее в дымке
трамвайных стекол, со стянутыми в тугой узел волосами цвета спелого желудя и
осеннего золота. С полу истлевшей сигаретой в левой руке. Всегда в левой.
В реальной жизни она почти не курит. Но в Городе курение
– такой же символ, как и все остальное. Это – эстетика особого рода. И если
сигаретный дым Ей к лицу, то символ сигареты необходим для завершения картинки.
Как скажем закату – символика вечного жертвования и возрождения в абрисе
Феникса.
Не стоит забывать о едином, но многосоставном символе.
Она – символ универсум, законченный, идеальный. Но в него входят символы детали: сигарета в левой руке, трамвай
маршрута «Года-Годо», желудевые волосы и старый
потертый этюдник на соседнем сиденье. Только таким образом картинка становится
целостной.
Каждый символ в свою очередь является гипер-симовлом,
завися только от движения глаз наблюдателя. Так трамвай маршрута «Года-Годо» именно таков в моем сознании потому, что в
составные его образа (гиперсимвола) входят Она,
сигарета, и все прочее. Таким образом, каждый объект является и
символом-деталью и гипер символом.
И все это – такие пустяки…
ВАТИКАН VII
Разумеется, появление студента могло ничего не значить.
Или значить нечто иное тому, что напела мне механическая канарейка. Но уж
больно нарочиты совпадения: столик у зеркала, замок с кровью, мишень на спине.
К тому же, я ведь мог и не прийти сегодня в «Домино»
В общем, я медленно встал, взял свою полупустую чашку с
кофе и неторопливо направился в сторону студента. И еще не дойдя заметил, что
он следит за мной через зеркало, следит за моим виртуальным двойником,
пробирающимся там, в зазеркалье, между столиками.
-
Вы не будете
против, если я присяду?
-
Нет, конечно, -
студент, похоже, тоже не был удивлен.
-
Вы виделись с
нею, - спросил я.
-
Да, совсем
недавно.
-
Значит, вы вошли
в трамвай.
-
Да. Но это был не мой трамвай.
На
какое-то время я растерялся, не зная, вправе ли я теперь торопить события и
спрашивать чем-то. Мне жутко захотелось курить, и вкус кофе показался
неожиданно пресным.
-
Ровно в полночь,
- поговорил студент, - трамвай
остановится на пересечении Гранитной набережной и улицы Тихого Ангела... он
простоит достаточно долго, потому что в это время переводят стрелки на мост.
-
Но ведь она не
станет...
-
Нет, это ваш шаг,
ваш выбор. Можете отказаться…
-
А Она?
-
А что Она? Она –
женщина, Ей приходится ждать. Перечитайте Библию, там все четко описано.
Впрочем, боюсь времени на это у вас нет.
Я
оглянулся на часы – 11:30.»Домино» вдруг показался слишком уютным, чтоб из него
можно было уйти. Так всегда бывает. Когда приходит время с чем-то прощаться
навсегда.
Старый, полуслепой официант оборачивал клетку с
канарейкой цветастым покрывалом. Сонный тапер, кидая недовольные взгляды на
запозднившихся клиентов, пробирался к роялю. Кто-то тихо выругался за одним из
столиков, кто-то громко рассмеялся за другим.
-
Мне уже надо
идти?
-
Думаю да. Время,
такая штука…
-
Время, такая
шутка… вы правы, мне пора.
-
Да.
Я
неторопливо закурил и втянул горький дым.
-
Тогда я пошел.
-
Идите.
-
Прощайте.
-
До свидания.
-
Но...
-
Идите же, черт
вас побери!
Тапер
взял несколько неуверенных аккордов. Кто-то снова выругался, кто-то засмеялся.
ВАТИКАН VIII
Что бы там не говорили, но в преступлении
есть своя прелесть. Преступление заложено в существо человека, точно так же,
как вкус яблока в существо женщины, как тяжесть железа в существо мужчины.
Преступление несет привкус победы.
И
все же, взламывая двери галереи Адмиралтейства, Николай не был уверен в том,
что поступает верно. Он чувствовал себя так же, как когда-то. Подвозя Аню на
свидание с чужим мужчиной. Аню, которую любил, Аню, которая любила его. Все эти
игры в свободную любовь, синие блузы, зеленые лампы… как давно это было, каким
нереальным кажется теперь…
Темные коридоры впитывали его шаги,
переваривали их медленно, смакуя каждое мгновение нарушения табу. Легкий
картонный сверток оттягивал руку; да еще это странное ощущение взгляда в спину.
До полуночи оставалось всего ничего, и
надо было успеть, потому что потом в преступлении уже не будет смысла. Оно
перестанет быть символом, а станет просто - преступлением.
Он отыскал по памяти то место на стене,
где висел испорченный соленой морской водой рисунок, сорвал его со стены и
бросил на пол. Там теперь его место, как и всего живого и отыгравшего свою
роль.
Когда
портрет Исаевича встал на свое место, и лунный блик на мгновение высветил
подпись Вознакиса, Николай снова ощутил приступ
неуверенности.
А
что если все напрасно? Если Она навсегда умерла в своих стихах, вместе со
своими многочисленными любовниками, вместе с правой перчаткой, зеленой лампой и
грязным «Мерседесом». Если девушка в трамвае – лишь случайная тень Ее гибели?
Ее забвения в мертвом поэте Николае… Что, если в эту ночь не переведут стрелки?
если студент-художник не найдет Того, Кто Выходит В Путь Этой Ночью? Что, если
Исаевич останется лишь легендой,
вымыслом, Атлантидой?
И
рука Николая уже потянулась к портрету, чтобы сорвать его, но в это мгновение
оглушительно ударили куранты на башне Адмиралтейства, скандируя полночь,
узаконивая преступление мертвого поэта. Ставки сделаны.
«Я
исчезаю навсегда, - уже задыхаясь, думал Николай, - умираю окончательно. Но
встречу ли я Ее там? За ретушью зеркал этого мира, этого Города?»
Поздно
– кричали часы. Этого уже не отменить. Кто-то должен умереть, чтоб другие
перевели стрелки.
Николай
умирал, глядя на портрет Исаевича. В Город входили новые сутки, и волны прилива
встречали их своим шепотом.
ВАТИКАН IX
Улицы
были пустынны, и свет полуночных фонарей безраздельно правил на продуваемом
ветрами пространстве. Из немногочисленных не спящих окон свет почти не
пробивался наружу, душимый тяжестью штор. Откуда-то донеся приглушенный собачий
лай, и мне показалось, что это со стороны дома собачника Джека. Гранитные
тигрята встретили меня недовольным рычанием. Волны бились о стены набережной,
отражая рассекаемую тенями двух мостов лунную дорожку. Сама ночная всадница
устало облетала шпиль Адмиралтейства.
Двое рабочих в оранжевых куртках путейцев
прошли мимо меня в сторону Моста Большого Мольна,
перейдя две линии трамвайных рельс с равнодушной легкостью.
-
Мольтке, хрипло сказал тот, что шел впереди, - как ты мог
забыть этот чертов провод?
-
Не знаю я. Совсем
как-то из головы вылетело.
…Трамвай стоял, погасив свои огни, опустив треугольный
рог, не издавая привычных звуков. Передняя дверь была наполовину отведена в
сторону. Я не стал вглядываться в стекла, я ведь итак знал, что Она там: сидит
в темноте и ждет меня. И Библия тут не при чем. Просто приходит однажды время,
когда нужно что-то начать с нуля. И это было только моим делом, моим выбором.
Она свой выбор сделала, сев в трамвай, обрекая себя на ожидание. Но вечность –
на удивление короткая штука. Вот и она кончилась.
Я подошел к двери и, не раздумывая, шагнул на
подножку. Где-то далеко, в недоступном уже мне мире гулко ударили куранты
Адмиралтейства. Луна вдруг взбодрилась и облила все поднебесное пространство
своим первородным молоком, высветив и Ее, напуганную и растерянную, и этюдник
на соседнем сиденье, и спящего кондуктора и эполеты гвардии-подпоручика на моих
плечах, и даже маленькие часики забытые кем-то. Но эти часики замерли,
послушные ночи, сведя стрелки на цифре 12. Я устало переложил этюдник и сел
рядом с Нею.
-
Привет –
вздохнула Евгения.
-
Привет, - против
воли улыбнулся я, - ну что, поехали?
-
Поехали…
Что глухо заурчало под нашими ногами. Дверь вздрогнула
и медленно встала на свое место.
…На спящий
Город опускался ночной туман. Последний туман в этом Городе для меня. Но я уже
перестал быть символом-деталью, я отправлялся в новый путь, давая Городу
возможность вновь и вновь оживать в моих снах.
Ее пальцы коснулись моей ладони, и я
снова улыбнулся в темноту. Все было чертовски правильно в этом мире, чертовски
сумасбродно, по детски красиво.
-
Я так устала без
тебя, Исаевич, - прошептала Евгения, кладя голову мне на плечо, - а ты оказался
таким упрямым.
-
Это уже не
имеет значения, - ответил я.
Мне очень хотелось обнять Ее, прижать к себе… Но я
знал. Что у нас еще будет для этого время. По этому я просто сидел, глядя в
темноту.
Я прощался с Городом.
Со своим Городом.
ЭПИЛОГ
Израиль Бельховец
умер через три дня после возвращения. Умер на удивление тихо. Он ничего не
помнил и не стремился вспоминать. Его родственникам досталось небольшое наследство
в разнокалиберной валюте и заброшенные конюшни. Его небольшая коллекция картин
была передана в городской музей, но поскольку все они не представляли особенной
художественной ценности, то так и остались навеки пылиться в запасниках.
Среди них
был, и небольшой портрет углем на пожелтевшем от времени картоне.
Впрочем, скорее всего это тоже не
имеет значения.
КОНЕЦ ТЕТРАДИ БЕЗ ОБЛОЖКИ
11.04.03. Москва